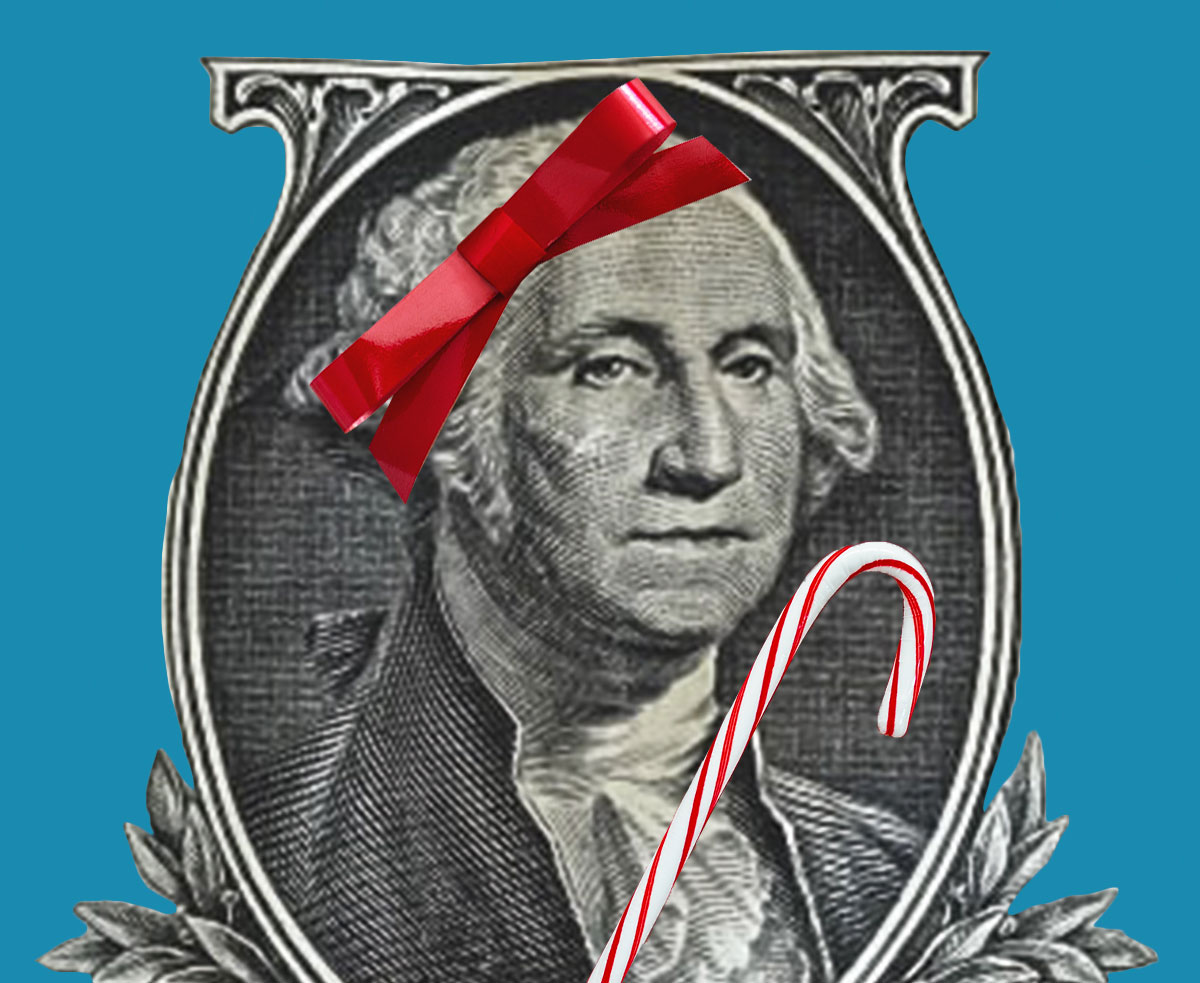Как материальное положение в детстве влияет на отношения с деньгами во взрослом возрасте? Почитайте две очень разные истории о том, как (не)бедное детство в девяностых и нулевых формирует наши нынешние привычки.

Ольга
27 лет
– Не могу сказать, что моя семья была прям очень бедной, но и обеспеченными мы точно не были. У родителей всегда был раздельный бюджет, причем тянула семью больше именно мама. Папа приносил базовые продукты типа вермишели, подсолнечного масла и консервов, а за вещи, вкусняшки, завтраки в школе и все остальное отвечала мама.
В детстве я не понимала, что это не очень правильная модель, так что об этом я не думала, а вот из-за количества денег, конечно же, переживала. Больше всего это ощущалось в вещах: подружки и сверстницы были одеты во все новое, а я ходила в заклеенной обуви, зашитых кроссовках, джинсах с заплатками – и с каждым годом это давило на меня все больше и больше.
«Я в прямом смысле попрошайничала»
– Карманных денег у меня было очень мало: когда в школе все на переменках покупали себе вафельки, смаженки, что-то еще, я могла купить себе только что-то одно и очень простое.
Крупных подарков в духе «вот тебе сто долларов, это твои личные деньги» тоже не было. Вместо этого мне часто дарили какую-нибудь вещь в сентябре со словами «это тебе сейчас, но на день рождения», а он у меня вообще в январе.
Школа у меня была самая обычная, в ней училась очень разношерстная компания, и в какие-то годы стало модно стрелять деньги – ходишь по коридорам и такой: «Мелочь есть?» Когда это стало очень распространенным, у меня появились деньги – я в прямом смысле попрошайничала.
Так делали и другие, даже дети из обеспеченных семей, так что ничего постыдного в этом не было – зато наконец появилась возможность покупать себе какие-то вкусняшки.

«С 13 лет я начала постоянно вертеться и зарабатывать деньги»
– Уже в 13 лет я пошла работать – бабушка устроила меня к себе на завод. Труд был максимально недетский, официально туда брали только с 16 лет, но благодаря бабушке и тому, что все видели, насколько сильно мое желание работать, мне разрешили работать.
В первую смену мне нужно было просыпаться в 04:40 утра, вторая смена заканчивалась около 00:30 – и все это не в Минске, нужно было ехать в Сосны. Проработать я смогла только месяц (завод просто переехал в другое место), получила за него 600 тысяч – и для меня это, конечно, были огромные деньги.
Я купила себе классную байку, модные «дудочки» в школу вместо колхозных брюк с рынка, джинсы, вкусняшки в магазине, что-то сестре, сходила в парк погулять – в общем, закрыла все гештальты, которые не могли закрыть родители.
Это ощущение мне очень понравилось, и в дальнейшем я постоянно искала способ заработать: фотографировала, переписывала за мальчишек курсовые, расклеивала объявления – по сути, с 13 лет я начала постоянно как-то вертеться и зарабатывать деньги.
«Начав получать хорошие деньги, я стала неистово закрывать все свои хотелки»
– Именно поэтому я стремилась быстрее уйти в колледж, а из колледжа – скорее на работу. По образованию я бухгалтер, но по профессии проработала буквально полгода. Платили очень мало, а хотели очень много: я сидела по 10–12 часов 5 дней в неделю далеко от дома – и быстро выгорела.
Я ушла в общепит, где был адекватный график и хорошие деньги, и начала неистово закрывать все свои хотелки. Меня с детства пытались приучить к тому, что деньги нужно откладывать и копить, но с первых зарплат я копила разве что на крупные покупки, поездки на море и подарки для близких – а не откладывала на черный день.
Я легко расставалась с деньгами: видела кожаную куртку за два миллиона – покупала, хотела полететь на море – летела прямым рейсом из Минска. Только где-то в 22, спустя 4 года расточительства, я начала по чуть-чуть откладывать, но это были небольшие суммы вроде 500 долларов для подушки безопасности.
«Не могу отказать себе в желании купить что-то незапланированное из одежды»
– Сейчас я некомфортно ощущаю себя в моменты, когда у меня по какой-то причине нет свободных денег. Есть ощущение, что, какая бы зарплата ни была, какой бы ни была подушка безопасности, если вдруг у меня нет денег, я вновь возвращаюсь в детство, в котором не могла себе что-то купить, и чувствую, будто бы это не я отвечаю за свое финансовое положение, а кто-то другой.
У нас с мужем совместный бюджет, мы планируем всё вместе – и иногда это тяжело. Он любит иногда ужиматься, экономить, а я к таким радикальным подходам не готова. Мы каждый месяц заранее планируем все расходы, но, если вдруг случаются какие-то факапы, он очень злится, а я злюсь из-за того, что он злится, – небольшие провалы, как мне кажется, абсолютно нормальны.
Я до сих пор иногда позволяю себе спонтанные покупки – думаю, какая-то травма из детства все еще со мной, поэтому порой не могу отказать себе в желании купить что-то незапланированное из одежды. Но обычно я совершаю эти покупки не из основных денег и заранее планирую, сколько времени мне нужно будет, чтобы отработать эту трату.
А вот кредитов избегаю: за всю жизнь я ни разу не пользовалась ни рассрочками, ни кредитными картами. Так сложилось, что если уж я не могу на что-то накопить и разово отдать за это деньги – значит, не так уж вещь мне и нужна.
В проекте «Пора к психологу» мы помогаем беларусам справиться с высоким уровнем стресса. Подпишитесь на «Пора к психологу» в Instagram или Telegram – там много полезного.

Анна
31 год
– Сложно судить, была ли моя семья богатой. С одной стороны, истории про голодные 90-е и совместную жизнь пары поколений в «малосемейке» я знаю понаслышке: мы жили в просторной трешке, ездили на море.
С другой – я училась в школе, где стремилась учиться «элита» города, и перед глазами всегда были дети, чьи родители богаче и успешнее. Меня это не задевало, но давало четко понять, что «богатый» – это скорее вот так, а у нас в семье просто все хорошо.
Я знала, что ради этого «хорошо» родителям приходится много работать, но про деньги со мной никто никогда не говорил. Не учили откладывать, не учили грамотно распоряжаться финансами, не стремились замотивировать мечтать о зарабатывании денег. То есть деньги просто были – и я относилась к ним соответствующе просто.
«Было неловко просить о чем-то прямо, но прием “ой, видела такое красивое платье” работал безотказно»
– Карманные деньги мне начали давать довольно рано, но копить их я не умела. В школьные годы все уходило на перекусы в столовой, сладости домой и мелкую косметику. Более крупные покупки инициировали сами родители. Не знаю почему, но мне было неловко просить их о чем-то. Они и так давали мне много, дарили подарки по поводу и без, так что я редко просила о чем-то сверх.
В университете свободных денег стало больше: мне давали больше, появилась стипендия. Но и расходы выросли: я переехала в Москву, мне открылся мир люксовой косметики, огромных многоэтажных книжных и манящих витринами кофеен. На это мне хватало собственных денег, но я внезапно открыла в себе любовь к одежде.
Мама обрадовалась, что я заинтересовалась шопингом: раньше она часто говорила, что я выгляжу не очень хорошо, ношу старые вещи и должна больше интересоваться модой. Мне было все еще неловко просить о чем-то напрямую, но прием «Ой, видела такое красивое платье» работал безотказно: мать легко давала мне деньги. Я не делала так часто, но было приятно осознавать, что такой вариант есть.
В итоге я легко тратила деньги на свои хотелки, когда они были, и чувствовала себя совершенно спокойно, если их вдруг нет: ну, сейчас нет – так будут потом. На крайний случай всегда можно продать что-нибудь из купленного в приступе шопинга. В Москве уже тогда было много ресейл-площадок, а я не привязывалась к вещам – мне скорее нравился процесс выбора и покупки, чем сам факт обладания.

«На скромную жизнь хватало денег от сдачи квартиры, которую мне подарила мама»
– В университете мать запрещала мне работать: во-первых, потому что я должна учиться, не отвлекаясь ни на что, а во-вторых, потому что «я тебя не для того учу, чтобы ты на кассе подрабатывала».
Да я и не стремилась к работе: помню, мы с подругой часто обсуждали, как было бы классно вообще никогда не работать. Только на пятом курсе я захотела поработать в хостеле просто веселья ради и кое-как уговорила маму разрешить мне это.
В глубине души я надеялась, что самостоятельно заработанные деньги научат меня серьезному к ним отношению, но первую зарплату спустила моментально: купила пару Dr. Martens, красную помаду Chanel и ворох всяких мелочей.
Эксперимент с работой закончился быстро: через пару месяцев я окончила вуз, пришло время решать, что делать дальше. Чтобы оставаться в Москве, нужно было либо искать хорошо оплачиваемую работу, либо оставаться жить с мамой. Первое маловероятно для вчерашней студентки, второе меня не привлекало, так что я вернулась в родной город: там пустовала родительская трешка.
Счета за коммуналку оплачивала мама, а мне на скромную жизнь хватало денег от сдачи квартиры, которую она мне подарила. В какой-то момент я познакомилась с парнем из Литвы и стала по полгода жить у него. Вторые полгода я жила в Беларуси за его счет: мы оба понимали, что искать работу только на полгода глупо, так что он просто присылал мне деньги каждый месяц.
«Чем больше я зарабатывала, тем больше тратила»
– Спустя два года мы расстались, а я поступила в вуз во второй раз. Казалось, выбор сделан более осознанно и я точно буду работать по специальности. Я собиралась стать учительницей русского: да, зарплата маленькая, но и карьерного давления минимум, а я не хотела гнаться за повышениями и прочими достигаторствами.
Но на пятом курсе мой друг, которого очень смешила я в роли учительницы, позвал меня новостницей в издание, где он работал, и я почему-то согласилась. Так в 27 лет в моей жизни появилась первая работа, мысли о которой я ненавидела не так сильно.
Меня все еще поддерживали мать и тогдашний партнер, но мне нравилось ощущение самостоятельно заработанных денег. Правда, копить их, как и прежде, я не могла: чем больше я зарабатывала, тем больше тратила. Каждое прибавление к зарплате просто открывало все новые и новые грани моего транжирства: «О, я стала получать больше – значит, могу купить духи не за 300 рублей, а за 500».
Иногда я корила себя за то, что ничего не откладываю, но это чувство быстро проходило: я знала, что в случае чего меня выручит мать. Порой я что-то откладывала, однако без зазрения совести спускала все отложенные деньги (их, правда, ни разу не набралось больше 100 долларов), если вдруг видела духи мечты или красивое платье.
«Не хочется быть зацикленной на деньгах»
– Полностью самостоятельной в финансовом плане я стала только в 31 год. Сейчас моя зарплата уходит в ноль, необязательных покупок просто удовольствия ради стало меньше. Но они не исчезли: я могу потратить последние деньги на безумно красивое винтажное кимоно и остаться с парой евро на счету на несколько дней.
Я по-прежнему легко отношусь к деньгам, когда они есть, и не особо парюсь, если их вдруг нет. Я каждый месяц обещаю себе, что вот в этот раз точно что-то отложу, – и каждый раз проваливаюсь в своем начинании.
В целом пока все это особо не приносит мне дискомфорта: во-первых, не хочется быть зацикленной на деньгах, во-вторых, я научилась их зарабатывать – так что понимаю, что при надобности смогу их заработать.
Перепечатка материалов CityDog.io возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Иллюстрации: CityDog.io.